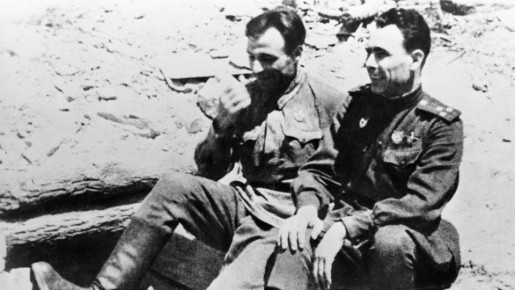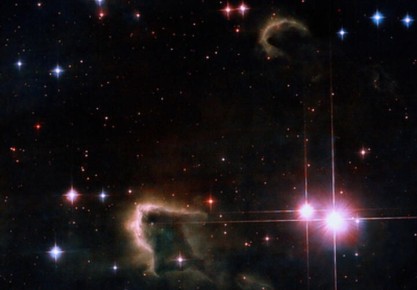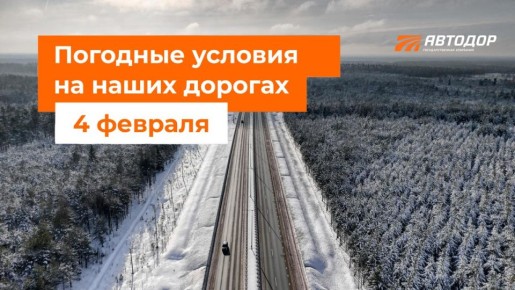ГлавнаяКультураИнтервью
Алексей Козлов: я с детства все делал не так — не ходил строем и не пел в хоре

— Алексей Семенович, от лица всей нашей редакции поздравляем вас с юбилеем. Поделитесь, пожалуйста, с какими размышлениями вы встречаете свое 90-летие?
— Хочется отметить и 100-летний юбилей.
— Многие музыкальные критики называют вас самым известным представителем эпохи советского джаза на современной российской сцене, вашу манеру игры на саксофоне ни с чьей другой не спутаешь. Как вы сами к этому относитесь?
— Замечательно говорят критики. Звук формировался годами, я долго его искал, и только в конце 80-х он стал узнаваемым.
— Какая музыка вас формировала в детстве и позднее, когда стали играть и сочинять сами?
— Я же из интеллигентной московской семьи преподавателей — дома слушал классику, во дворе, как и все пацаны того времени, пел пионерско-блатные песни под гитару. А вот в послевоенные годы музыка из фильма "Серенада солнечной долины" перевернула восприятие и предопределила мое дальнейшее увлечение джазом.
Я с детства обожал все, что несло на себе отпечаток уникального, утонченного стиля, погубленного начавшейся Первой мировой войной. Я преклонялся перед [английским литератором и теоретиком искусства Викторианской эпохи] Джоном Рёскином и [английским художником и писателем] Уильямом Моррисом, пытавшимися спасти музыкальную эстетику мира от напора промышленной революции.
Работая над оркестровками для квартета им. Шостаковича, я попал под очарование французских композиторов Габриэля Форе, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Эрика Сати. Было и есть серьезное увлечение Махавишну, Бородиным, Рахманиновым, Римским-Корсаковым, Вагнером, Равелем.
Из джазменов, которые близки по духу, — [норвежский джазовый саксофонист и композитор польского происхождения] Ян Гарбарек, [американский джазовый пианист и композитор] Кит Джэррет, [американский джазовый трубач и бэнд-лидер, стоявший у истоков множества стилей и направлений в джазе, таких как модальный джаз, кул-джаз и фьюжн] Майлз Дэвис, [американский джазовый гитарист и композитор] Пэт Мэтени, [американский гитарист и один из основателей ансамбля "Ореон"] Ральф Таунер и группа "Ореон".
— Еще до прихода к власти большевиков джазовая музыка начала проникать в Россию, однако во времена Сталина, в период установления жесткого контроля над культурной сферой, джаз стал восприниматься как символ западной дегенерации. Как вам удалось в такое непростое время заниматься тем, что у советских властей было не в чести? И не просто заниматься, а еще и возглавить это направление?
— Джаз в России появился в 20-е годы прошлого века, если верить первым документальным записям о концерте [русского советского поэта, хореографа и музыканта] Валентина Парнаха, и, конечно, не всеми был понят, но он и не был запрещен. Трофейные фильмы типа "Серенады солнечной долины" и грампластинки джазовых исполнителей в конце войны и первые годы после нее смотрели в кинотеатрах и слушали во дворах. Наши режиссеры начали снимать фильмы с джазовой музыкой еще при Сталине, вспомните фильмы [Григория] Александрова. Дегенеративным его стали называть и запрещать уже в послевоенный период, так называемого железного занавеса.
В конце 50-х и в 60-е открывались джаз-кафе "Молодежное", "Синяя птица", "Печора", все джазовые составы аккомпанировали известным исполнителям, озвучивали фильмы, писали музыку к мультфильмам.
Никакой запрет не мог повлиять на патологическую невозможность импровизационных музыкантов играть и писать иную музыку.
— В вашей книге "Джазист" вы упоминаете, что с ростом популярности "Арсенала" появилось множество завистников и критиков, которые полагали, что вы изменили джаз ради достижения успеха. Как вы справлялись с этими внутренними переживаниями? Что говорили себе в такие моменты? И как вы сами сегодня оцениваете свой вклад в развитие отечественного джаза?
— Я играл то, что мне нравится, делал то, что мне интересно: разбирал разные направления и музыкальные течения, экспериментировал, очень много зарубежной музыки слушал, очень много читал, очень много репетировал, и ничье мнение меня не интересовало.
Перефразирую одну известную рекламу: я никого не слушал. Я все делал не так. Я таким с детства был — не ходил строем, не пел в хоре, — претило.
Задевало ли? Да, например, пренебрежительное отношение академических музыкантов к джазменам, но это лишь провоцировало на получение музыкального образования и создание программы с академическим коллективом. Так появился концерт и альбом с квартетом Шостаковича, например. Именно академические музыканты, которые любят джазовую музыку и способные импровизировать, создают сейчас музыку с богатой корневой и академической основой, способную восхищать мировое джазовое сообщество.
Когда мне традиционный джаз стал скучен, я увлекся авангардным, в котором нет формы. [Американский джазовый саксофонист и композитор, пионер фри-джаза — авангардного направления джазовой музыки] Орнетт Коулман вдохновлял меня в тот период. Когда понял, что разрушать больше нечего, — атональный джаз, фанк, фьюжн…
— Существуют ли у проекты, которые вы хотели бы реализовать, но не реализовали?
— Вы про мои архитектурные проекты? Я ни о чем не жалею. Все, о чем я мечтал, сбылось. Даже дом культуры для джазовых музыкантов — джаз-клуб на современный лад — в центре Москвы на трех этажах развивается, носит мое имя, да еще и признан лучшим в мире! Вы только подумайте — четыре сцены, на которых параллельно и ежедневно выступают молодые талантливые и перспективные музыканты со всей нашей страны и из-за рубежа, ежедневные джемы разных стилей, проходят презентации альбомов, фестивали — 170 уникальных событий в месяц. А ведь отбор жесткий. Никакой халтуры. Никаких проходных концертов. Я мечтал о невозможном, но вот уже 13 лет исполнилось клубу, что в самом центре Москвы!
— Каким вы видите будущее "Арсенала"? Почему вы выбрали в качестве преемника именно Анну Королеву?
— Пока мои пьесы живут, "Арсенал" будет жить. Аня Королева идеально подходит по духу, говорить об этом не вижу смысла: сходите и послушайте живьем "Арсенал" и Королеву в ее сольных проектах. Ну или посмотрите пятничные трансляции концертов, если вы не в Москве.
— Кого еще из молодых музыкантов вы могли бы выделить сегодня?
— Дмитрий Илугдин, Петр Восторов, Marimba plus, Антон Горбунов, Евгений Шариков, Феликс Лахути, Владимир Голоухов, Ольга Олейникова, LRK… Они все выступают в клубе — невероятное количество талантливой, образованной молодежи сконцентрированы в клубе, я очень рад этому. Моя мечта сбылась.
— В своих интервью вы рассказывали, что никогда не считали себя педагогом в традиционном смысле. То есть не показывали, как заниматься на инструменте или писать аранжировки, а просто предоставляли возможность научиться все это делать самостоятельно, находясь в атмосфере "Арсенала".
— Именно так. Дисциплина, домашние задания, обсуждения и творческий процесс во время репетиций. Случайных музыкантов в "Арсенале" не было и быть не могло. Многие выходцы из "Арсенала" стали бэнд-лидерами — это и есть мой вклад в музыкальную культуру вообще и в воспитание отдельных музыкантов в частности.
— Алексей Семенович, а как вам удалось выстоять в трудные для большинства джазменов 90-е годы?
— В период повального увлечения попсой? Просто распустил коллектив и занялся просветительской деятельностью. Пока мне не позвонили и не позвали с "Арсеналом" на телевидение в программу "Лучшие из лучших".
— Вы ведь не уехали на Запад, как это сделали многие. Напротив, вы остались в России и вели просветительскую деятельность в качестве ведущего радиопередач и телевизионных программ, стали автором энциклопедии рока, книг "Козел на саксе", "Джазист", создали цикл концертов-лекций в ММДМ по истории музыкальной культуры ХХ века…
— Я много ездил с гастролями по миру и по стране, преподавал в Оклахоме, именно эта гастрольная жизнь привела к пониманию, что я — коренной москвич, которому дороже родного города нет ничего. Когда в конце 80-х у меня, как и у всех советских людей, появилась возможность беспрепятственного выезда за границу и более трезвого сравнения жизни нашего общества и западного, мне пришло в голову, что насколько же легче во многих отношениях жилось всегда гражданам тех же Соединенных Штатов Америки. Приглядываясь к людям, которых встречал там, к нормальным, честным и трудолюбивым гражданам, доброжелательным, верующим и слегка ограниченным в смысле круга интересов, я мысленно спрашивал себя, а смогли бы они достичь своего благополучия, живя в наших условиях в 60-е или 70-е годы, не говоря про конец 30-х?
Мы, прожившие всю жизнь в условиях дефицита еды и товаров, отсутствия информации, свободы слова, передвижения, вероисповедания и многого другого, прожили жизнь не зря.
— Как вы оцениваете состояние современного российского джаза?
— Он развивается и давно уже не является подражанием американской культуре: в основе — академическая русская традиция, национальная корневая культура и несомненное воздействие лучших образцов мировой культуры.
Сейчас джазовое образование в нашей стране достигло высокого уровня, появилось немало молодых профессионалов, студентов и выпускников Гнесинки, Российской академии джаза, владеющих блестящей исполнительской техникой, а также знанием и пониманием гармонии, только узость общего кругозора и ограниченных музыкальных вкусов, как и в прежние времена, кстати, может тормозить личное развитие отдельных музыкантов.
— Говоря о будущем джаза, нельзя не отметить размытие его границ. К 1990-м годам уже стало ясно, что в джаз вливается множество других музыкальных течений, стилей и этнических составляющих. Возможно, есть основания предполагать, что через 10–15 лет джазом можно будет называть все, что имеет синкопы и их дефиницию? Какое будущее для джаза видите вы?
— Музыканты, например, воспитанные на бибопе (джазовый стиль, сложившийся в 40-х годах XX века в США, для которого характерны быстрый темп и сложные импровизации, основанные на обыгрывании гармонии, а не мелодии — прим. ТАСС), в большинстве своем надолго остаются его приверженцами, не интересуясь тем, что происходит в другой музыке, особенно если к джазу она вообще никакого отношения не имеет. Боперский фанатизм с его неприятием ладовой музыки, рок-музыки, политональной концепции и многого другого напоминает мне сектантство или религиозный фундаментализм. Эта упертость необходима в период освоения профессии, но затем она становится тормозом, превращая музыканта в узкого профессионала, что граничит с ремесленничеством.
В этом и суть импровизационной музыки — широкий кругозор, начитанность, насмотренность, наслушанность в разных сферах: в литературе, поэзии, искусстве, истории, кино, архитектуре, музыке... Только этот плавильный котел рождает настоящее искусство.
Отвечая на ваш вопрос: великолепное будущее у джазовой музыки — бесконечное. Я настроен весьма оптимистично. Давайте поговорим об этом лет через 10–15.