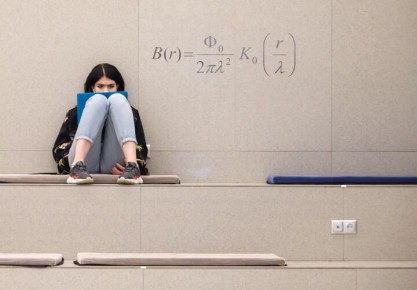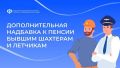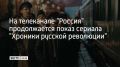В октябре 1915 года было завершено строительство самого длинного железнодорожного тоннеля, целиком и полностью расположенного в европейской части России. Его длина составляет без малого 2063 метра и находится он возле города Лутугино Луганской Народной Республики, по которому и получил своё название
Многие удивляются, когда узнают о том, что в Донбассе есть целый каскад из трёх тоннелей длиной 2063, 711 и 42 метров соответственно, пробитых под водоразделом Донецкого кряжа – древнего горного хребта, с которым и связаны всем известные угленосные пласты.
Из российских железнодорожных тоннелей, находящихся западнее Урала, длиннее только Чилипсинский на перегоне между Туапсе и Горячим Ключом, но он проходит под Главным Кавказским хребтом, считающимся границей Европы и Азии. В отличие от него стопроцентная европейская принадлежность Лутугинского тоннеля не оспаривается.
В наши дни увидеть столь уникальные памятники отечественной инженерной мысли из окна вагона невозможно: Северо-Донецкая магистраль жестоко пострадала от распада СССР, пассажирское движение по этому участку прекратили ещё при Украине в 2007 году волевым порядком несмотря на его востребованность.
Магистрали особого назначения
Рубеж XIX и XX столетий с полным правом можно назвать "золотым веком" железнодорожного строительства в России. Его особенностью было то, что строились дороги двух типов.
Первый тип связывал между собой деловые центры, промышленные районы, пограничные пункты на суше и порты на побережье. К их числу в Приазовье относились Южная, Северо-Кавказская и Екатерининская железные дороги, обслуживавшие рудники Криворожья, шахты и заводы Донбасса, а также порты Мариуполя и Таганрога. По ним же ростовские и харьковские промышленники направлялись по делам в Москву и Санкт-Петербург. Эти магистрали отличались высокой пропускной способностью и приносили немалую прибыль.
Второй тип – не слишком деятельные однопутные линии с невысокой пропускной способностью. Их прокладывали в стороне от промышленных центров, либо на периферии индустриальных районов, значительная часть их протяжённости проходила в местностях, которые не давали большого грузоотправления. Для незнакомых с экономикой транспорта: прибыль приносит отправление грузов, а вот их транзит и выдачу получателям зачастую приходится дотировать.
Тем не менее эти магистрали сооружались иногда даже более добротно, чем предыдущие, а многое делалось что называется "на вырост".
Например земляное полотно отсыпалось очень широким и достаточным для прокладки второго пути, хотя на земляные работы приходится львиная доля издержек. Земельные участки под железнодорожные станции также отводились несоразмерно большими. Даже на самом маленьком вокзале имелась мощная кубовая (напомним что водонагревателей в вагонах тогда не было и пассажиры набирали кипяток на станциях), а станционные буфеты оснащались погребами и ледниками для хранения больших запасов провизии. В обязательном порядке полагалась обширная и благоустроенная привокзальная площадь, а неподалёку часто возводились общественная баня и прачечная, рассчитанные явно на большее число посетителей, чем проживало в пристанционном посёлке.
Грузовой двор такой станции – отдельная тема. Он оборудовался коновязями и поилками для большого табуна, а в складских зданиях предусматривалось наличие отопления, хотя сама отопительная система чаще всего пребывала в законсервированном состоянии.
Понятно что всё это создавалось на случай обострения международной ситуации чтобы обслуживающие промышленность линии (чья загрузка в особый период и так возрастает), не оказались парализованными за счёт добавления воинских перевозок. Именно для этой цели прокладывались Бологое-Полоцкая, Сызрано-Вяземская, Рязано-Уральская и другие железные дороги.
На Юге России, располагавшем хорошо обученным и готовым к максимально быстрой мобилизации резервом в лице Донского, Терского и Кубанского казачьих войск, было решено проложить Северо-Донецкую магистраль, связывавшую станцию Лихая в Восточном Донбассе с железнодорожным узлом в городе Льгов Курской губернии. Своё название линия получила в честь Северского Донца, вдоль которого проходила южная её часть.
Бизнес высокопоставленного чиновника
Прокладка Северо-Донецкой железной дороги началась в 1908 году. Ведавшее работами акционерное общество возглавил статский советник Фёдор Енакиев, ранее построивший на реке Булавин металлургический завод, положивший начало городу Енакиево.
Многим нашим современникам покажется странным тот факт, что обладатель достаточно высокого ранга совмещает государственную службу с ведением бизнеса. Да, сейчас это запрещено во многих странах, включая Россию, но в начале ХХ века такое "совместительство" даже для армейских и флотских офицеров не считалось чем-то зазорным.
Но вернёмся к личности Фёдора Енакиева. Это не первый железнодорожный проект, которым он руководил: ранее он занимался прокладкой и эксплуатацией железных дорог в Прибалтике, связывавших Санкт-Петербург и Москву с Ригой, Либавой, Виндавой и Ревелем – основными портами на западном направлении, а также прокладывал стальные магистрали в Приазовье. Ещё он являлся автором первого проекта Санкт-Петербургского метрополитена, реализовать который не позволила Первая Мировая война. Тем не менее спустя четыре десятилетия многие его наработки пригодились ленинградским метростроевцам.
Сданную в эксплуатацию Северо-Донецкую магистраль Фёдор Енакиев увидеть не успел. В январе 1915 года он скончался в возрасте шестидесяти трёх лет находясь на восстановительном лечении от внезапно наступившего осложнения.
Противостояние подземной стихии
На перегоне между станциями Семейкино (ныне в черте города Краснодон) и Родаково (ныне – главным железнодорожным узлом ЛНР) на пути у строителей Северо-Донецкой магистрали встали скальные массивы Донецкого кряжа. И здесь пришлось решать очень интересную и сложную задачу: прокладка одного километра железной дороги стоит баснословных денег.
Сегодня она во всём мире редко когда обходится меньше, чем в местный эквивалент миллиона долларов США, а в начале ХХ века в России стоимость одной версты начиналась от 65 тысяч рублей золотом (около полумиллиарда современных рублей без учёта разницы курса золотого рубля и ассигнаций – Ред.). Рассматривались варианты прокладки линии, повторяющей все изгибы местности, но дешевле оказалось идти напрямую и строить три тоннеля.
Работами по возведению тоннелей руководил отозванный в Донбасс со строительства Романовского ирригационного канала в Голодной Степи (ныне – находящийся в совместном пользовании Казахстана и Узбекистана канал "Дустлык") инженер, предприниматель, меценат и обладатель недюжинного изобретательского таланта Сергей Чаев. С Донбассом его связывает не только построенный им тоннельный каскад, но и то, что он был в числе главных спонсоров русских полярных экспедиций, и в частности – экспедиции уроженца Донецкого Приазовья Георгия Седова на Северный полюс.
Проходка тоннелей, особенно самого протяжённого, велась в сложных горно-геологических условиях. Больше всего неприятностей доставил плывун: в один из дней забой затопило смесью воды с песком. Тогда Чаев приказал заполнять соломой пространство между крепью и грунтом: вода просачивалась свободно, а твёрдые частицы задерживались. Решение оказалось простым и грамотным: в настоящее время подобным образом работают иглофильтры, широко применяемые для водопонижения в строительстве.
Укрощение разбушевавшейся подземной стихии было вполне по силам даже при том уровне техники, но требовало времени. Поэтому Чаев решил не останавливать процесс, а обойти аварийный участок при помощи двух пробитых с поверхности шурфов, и параллельно с ремонтно-восстановительными работами продолжать проходку той части тоннеля, где породы ведут себя более спокойно. Таким образом благодаря упорному труду и инженерной смекалке удалось выдержать и сроки сдачи тоннеля в эксплуатацию, и, спустя несколько месяцев, вовремя открыть сквозное движение поездов на всём протяжении Северо-Донецкой магистрали от Лихой до Льгова.
Дорога, овеянная легендами
Известия о трудностях, выпавших на долю строителей, стали распространяться местными жителями из уст в уста, поэтому неудивительно что вскоре заработал принцип "испорченного телефона". В результате Лутугинские тоннели быстро обросли целым пластом городских легенд. Кстати, Лутугинскими, в честь близлежащего райцентра, их стали называть ближе к середине 1930-х годов, а до этого часто именовали Северо-Донецкими. Надо отметить что все эти топонимы обиходные: официально тоннели и мосты называют по километру на котором они расположены.
Самую распространённую легенду я услышал примерно четверть века назад во время поездки в тогда ещё ходившем дизель-поезде из Родаково в сторону пограничной станции Изварино.
Вкратце она выглядела так.
Инженер, проектировавший тоннель, с точностью до часа спрогнозировал время сбойки. Оставались считанные метры до встречи двух бригад, но тут рабочие ударились в пьяный загул и сорвали план. Инженеру, чтобы спасти свою честь, пришлось застрелиться. Друживший с погибшим есаул, узнав о трагедии, собрал казаков и нагайками принудил загулявших к работе. В результате сбойка состоялась даже на несколько часов раньше, чем предсказывал погибший, но рабочие были безжалостно оштрафованы подрядчиком.
Позднее довелось слышать другую версию о том, что две группы проходчиков из-за ошибки маркшейдера не могли встретиться друг с другом, и допустившему ошибку пришлось смывать позор кровью. Правда потом сбойка всё-таки состоялась, но исправить уже ничего было нельзя.
Тем не менее процесс строительства Лутугинского каскада тоннелей в СССР широко освещался в период индустриализации и в профессиональной, и в научно-популярной литературе: всё-таки сооружение уникальное даже по нынешним меркам. Так вот ни о каких фактах самоубийства инженеров не сообщается, хотя наличие таковых безусловно было бы использовано советской пропагандой с целью обличения буржуазного строя. А вот имя Сергея Чаева упоминается часто, хотя тот и оказался белоэмигрантом.