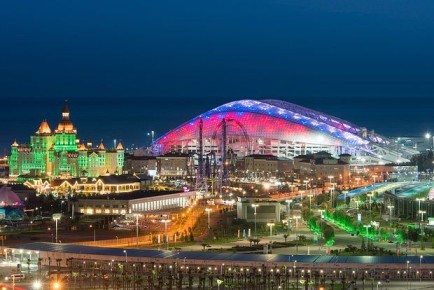Глава "Системного оператора" Федор Опадчий рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума, как изменится энергопотребление в России, какие перспективные технологии для энергосистем планируют применять на юге страны, а также о том, какой объем вводов солнечной и ветровой генерации ожидается в РФ до 2030 года
— Какой объем энергопотребления в РФ ждете по итогам года?
— По данным на 3 сентября, энергопотребление в России нарастающим итогом с начала года снизилось на 0,9% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это связано с погодными факторами — зима была более теплой, а лето менее жарким.
По текущей оценке, если не случится природных аномалий, энергопотребление в России по итогам 2025 года сохранится на уровне прошлого года. Период летнего пика мы уже почти прошли, еще возможны небольшие изменения, но значимый рост потребления на юге, обусловленный высокой температурой, мы вряд ли увидим. Про зиму сейчас говорить рано — у природы свои планы.
На текущий момент чуть ниже прошлого года идет электропотребление в энергосистемах Урала и Сибири. В Центральном регионе мы идем на уровне прошлого года. На юге с начала года потребление электроэнергии возросло на 0,8%.
— А какое энергопотребление на Дальнем Востоке?
— На территориях Дальневосточного федерального округа видим рост 4,3% к прошлому году. Прогнозируем, что по итогам 2025 года рост энергопотребления на Дальнем Востоке составит порядка 4,5%. В 2026 году ожидаем рост 5%.
— Каковы ожидания на следующий год?
— В следующем году мы прогнозируем устойчивый рост энергопотребления в целом по стране, при этом на фактическое значение прироста будет оказывать влияние температурный фактор. У нас погодозависимое электропотребление — загрузка систем отопления зимой и кондиционирования летом существенно зависит от температурных условий, что влияет на годовой объем потребления. Для среднемноголетних условий ожидаем рост на уровне 3%.
— Можно ли уже подвести итоги прохождения энергосистемой юга летнего периода?
— В этом году максимум нагрузок на энергосистему был пройден успешно. Минэнерго, "Системный оператор", генерирующие и сетевые компании энергетики с учетом опыта прохождения периода аномально высоких температур в прошлом году выполнили большой комплекс мероприятий по подготовке к прохождению максимума нагрузок, в том числе при проведении ремонтных программ и реализации программ повышения надежности генерирующего и сетевого оборудования.
Еще один благоприятный фактор — умеренно жаркая погода. Температурный уровень при прохождении периода пиковых нагрузок 2025 года был значимо ниже аномально высокого уровня, наблюдавшегося в прошлом году, когда регулярно регистрировались исторические максимумы температур.
— Успевают ли энергетики подготовиться к зиме?
— Безусловно, должны. Работа ведется в плановом режиме. У нас пока нет никаких оснований полагать, что запланированные к проведению до наступления максимальных зимних температур мероприятия не будут завершены в срок.
Ожидаем, что и этой зимой энергопотребление в ОЭС Юга в очередной раз превысит максимальные значения, достигнутые летом. Подобная динамика наблюдается последние несколько лет, когда в энергосистеме исторические максимумы последовательно обновляются каждую зиму и лето.
— Какие решения уже были приняты для решения проблемы энергодефицита?
— Принято решение о строительстве более 2 ГВт новой генерации в Объединенной энергосистеме Юга. В Краснодарском крае и Крыму планируется реализация принципиально нового для нашей страны проекта — ввода в работу электрохимических накопителей большой емкости. У нас в России есть большой опыт использования системы промышленного накопления энергии для управления режимами работы энергосистемы — это гидроаккумулирующие электростанции. Теперь настало время новых технологий. У электрохимических систем накопления энергии есть большое преимущество — крупный системно значимый объект может быть введен в работу менее чем за год с момента принятия решения. Сейчас технологии активно развиваются, и в мире уже реализовано значимое количество проектов систем накопления энергии с мощностью, измеряемой сотнями МВт.
— Как вы считаете, в каких регионах можно еще использовать такие накопители?
— Системы накопления энергии не являются универсальным решением для покрытия потребления в энергосистеме — их можно использовать для покрытия нагрузок в течение части суток, то есть они являются поставщиками мощности, выдавая электроэнергию в пиковые часы. Но с точки зрения электроэнергии любая система накопления для энергосистемы является потребителем. В силу физических свойств процесса на зарядку системы вне зависимости от технологии хранения энергии необходимо затратить больший объем энергии, чем потом можно вернуть в сеть. Поэтому, например, на Дальнем Востоке применять такие установки в виде самодостаточного решения не получится. В регионе существует дефицит не только мощности в отдельных районах, но и в целом киловатт-часов, то есть объема электроэнергии. И до тех пор, пока мы не построим генерирующие мощности, которые могли бы производить больше электроэнергии, накопитель не будет эффективен. В текущей ситуации любой установленный в ОЭС Востока накопитель, решая проблему дефицита мощности — выдачи в отдельные часы — пиковые часы суток, будет усугублять проблему дефицита электроэнергии в целом.
Именно поэтому для решения вопросов дефицита мощности в Приморье мы предлагали техническое решение на базе быстровозводимых газотурбинных установок малой мощности. Они могут быть введены в работу в сроки, соизмеримые с вводом систем накопления энергии, но при этом они дают и мощность, и энергию.
На юге в целом мы видим хорошие перспективы применения технологии накопления энергии для покрытия дефицита мощности в объеме сотен МВт, но в то же время при реализации конкретных проектов важна оценка запасов энергии для ночного заряда в конкретной точке энергосистемы. Например, накопитель 100 МВт в Крыму будет эффективен, а вот существенное увеличение мощности уже потребует решения вопросов получения дополнительной энергии.
— В Москве применение таких накопителей было бы актуально?
— Москва — это гигантская энергосистема с ярко выраженной неравномерностью суточного потребления, в которой, безусловно, для решения проблемы пиков энергопотребления целесообразно применение накопителей электроэнергии. Именно поэтому в московской энергосистеме реализован крупнейший в нашей стране проект системы накопления электроэнергии, но не электрохимический, а гравитационный, использующий энергию воды — Загорской ГАЭС мощностью 1,2 ГВт. На сегодняшний момент по энергосистеме Москвы уже приняты решения о строительстве новой генерации. В том числе ждем ввода второй очереди мощностью 600 МВт. Мне кажется, что с точки зрения использования накопителей этого пока достаточно.
— Систему накопителей энергии планировалось запустить в июле 2026-го, но срок планируется перенести на конец этого года. То есть их установка занимает не очень много времени?
— Это первый проект в нашей стране, и для того, чтобы говорить о реальных сроках ввода, необходимо дождаться завершения проектирования, по итогам которого "Россети" смогут определить фактически реализуемые сроки ввода в работу новых объектов. Я полагаю, что это решение достаточно быстро может быть реализовано — "Россети" имеют все возможности, чтобы оперативно решить вопрос и технического присоединения накопителей к собственным подстанциям, и их размещения как на самих подстанциях, так и на прилегающих площадках.
— Сколько это может стоить?
— В энергетике с учетом текущих реалий не может быть дешевых решений, но нужно дождаться итогов проектирования и выбора оборудования. Если смотреть мировую практику, то в последние годы цена промышленных систем накопления энергии устойчиво снижается, и сегодня с точки зрения капитальных затрат на сооружение объектов стоимость технологии уже вполне конкурентоспособна по сравнению с традиционной генерацией.
— Если говорить о другой энергозатратной сфере — майнинге, как вы оцениваете снижение энергопотребления после частичного запрета на него?
— Значимое снижение потребления мы видим в юго-восточной части Сибири. Все потребители, которые ранее официально признали себя майнерами криптовалют, отключились из системы и не потребляют энергии. Сейчас мы не видим никого, кто признавал бы себя майнером и напрямую нарушал закон. Поэтому оценка все та же — в этом регионе удалось снизить энергопотребление на величину более 300 МВт.
Ключевой вопрос — что дальше будет происходить с освободившейся мощностью? Варианты могут быть разные — от полного распределения на других потребителей, находящихся в энергосистеме, до возможности перепрофилировать производство и продолжить использовать мощность конкретных объектов, но уже в других целях.
— Если расширят список регионов, в которых запрещен майнинг, сколько энергии удастся сэкономить?
— На Дальнем Востоке мы не видим активного развития майнинга и, соответственно, возможности за счет таких решений сэкономить что-то в балансе. Сейчас в Сибири майнинг активно развивается, но в тех зонах, где нет дефицита. При наличии возможности дозагрузки существующего оборудования майнеры увеличивают полезный отпуск электроэнергии в энергосистеме, и на это, как правило, указывают как на положительный фактор.
Сложности появляются в том случае, если не хватает мощности или электроэнергии в каком-то регионе, и для покрытия нового потребления мы должны строить новую дорогостоящую генерацию или реализовывать дорогостоящие проекты по развитию магистральной сети. Учитывая, что все потребители на равных платят за новые мощности, получается, что все действующие потребители за счет будущих платежей субсидируют развитие энергетической инфраструктуры для майнеров. Если бы была уверенность, что майнинговый объект пришел надолго — как жилой комплекс или новый завод, то, наверное, для энергосистемы он бы ничем не отличался от любого другого потребителя. Но сегодня никакой уверенности в этом нет.
— Есть ли у вас варианты, как распределить высвободившуюся энергию после запрета на майнинг?
— Есть соответствующие поручения правительства, сейчас эти механизмы прорабатываются Министерством энергетики, и мы принимаем участие в этом процессе. Временно высвобождающиеся мощности целесообразно перераспределять в первую очередь на социально значимые объекты, которые важно подключать к сети даже в условиях энергодефицита — до момента, когда будет построена генерация и вопрос дефицита будет снят.
И к тому же во всех дефицитных зонах есть отложенный спрос на электроэнергию — то есть большое количество перспективных проектов, которые еще технически не присоединились к сетям. Поэтому освобождающиеся объемы электрической мощности всегда пригодятся.
— Недавно состоялся отбор проектов возобновляемых источников энергии для Дальнего Востока. Как считаете, нужен ли еще один конкурс?
— Пока текущие объемы отобранных проектов ВИЭ мы рассматриваем как предельные, которые могут быть эффективно интегрированы в энергосистему на территориях ДФО. В этом году на территории ОЭС Востока проведен дополнительный отбор инвестпроектов по строительству ВИЭ-генерации. С учетом ранее проведенных отборов для второй ценовой зоны в рамках регулярных отборов ДПМ ВИЭ в ДФО до конца 2030 года должно быть введено 2,5 ГВт новой ВИЭ-генерации, при этом основной объем ввода запланирован на 2026–2028 годы. Сейчас для Дальнего Востока важно принятие решений по строительству "традиционной" генерации, ТЭС, ГЭС и атомных станций, обеспечивающих закрытие баланса и электроэнергии, и мощности. Дальнейшее увеличение объемов ВИЭ без строительства новых ГЭС или систем накопления энергии будет означать снижение эффективности их использования — в периоды наиболее благоприятных погодных условий их энергию будет некуда выдавать.Сегодня избыточное сооружение ВИЭ на Дальнем Востоке не поможет решению вопросов энергодефицита, поэтому отборов, соизмеримых по объемам с прошедшим, в этом году мы в ближайшее время не планируем.
— А в целом по стране какую долю занимают объекты ВИЭ?
— На сегодняшний день доля солнечной и ветровой генерации в общей выработке страны составляет порядка 1%, доля в установленной мощности — порядка 2%. Если же говорить не только про СЭС и ВЭС, а в целом про долю безуглеродной выработки, то она с учетом АЭС и ГЭС близка к 40%.
— Какой объем вводов солнечной и ветровой генерации вы прогнозируете до 2030 года?
— По результатам уже проведенных отборов ДПМ ВИЭ до 2030 года должно быть введено в работу более 6 ГВт солнечной и ветровой генерации. В целом же на горизонте планирования Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прогнозируется ввод 16,6 ГВт СЭС и ВЭС.
Источник: https://tass.ru/interviews/24994223